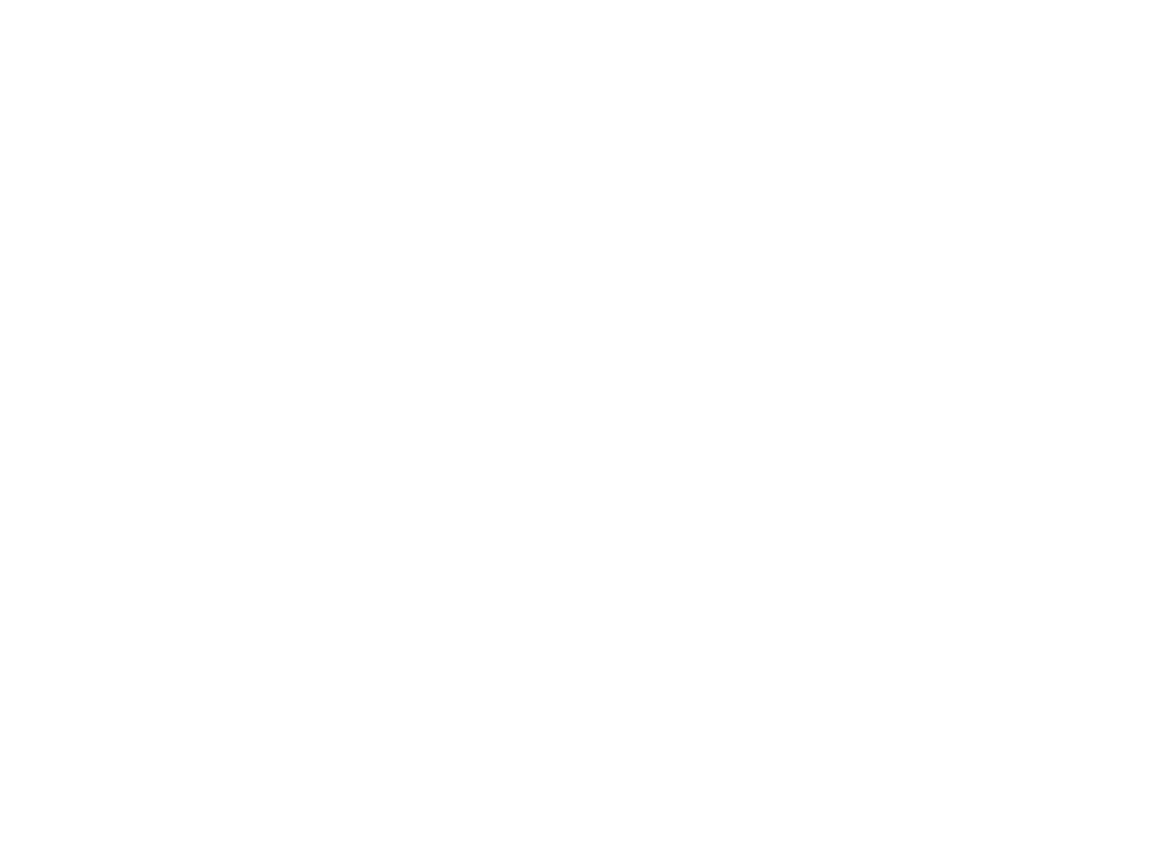Ars Moriendi
Латинские тексты, которые объясняли, как праведно умирать согласно христианским традициям позднего Средневековья
Маргарита Николаева Экскурсовод, 23 года. Родилась в городе Кинель, Самарская область, живет в Санкт-Петербурге. Занимается изучением некрополей и культуры смерти. Автор проекта whatiscemetery. |
Маргарита Николаева
Экскурсовод, 23 года. Родилась в городе Кинель, Самарская область, живет в Санкт-Петербурге. Занимается изучением некрополей и культуры смерти. Автор проекта whatiscemetery.

Меня зовут Рита, мне 23 года. Я родилась в Cамарской области, в маленьком городе Кинель, городе железнодорожников. Училась в Самаре и 5 лет назад поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет международных отношений, отучилась там 4 года, получила диплом и начала искать работу. И нашла — на Пискаревском мемориальном кладбище, где я работаю до сих пор.
Идея создать проект про кладбища у меня была давно, как-то с детства мне все это нравилось. В последнее время мы с моим другом ходили по кладбищам (практически везде были), смотрели, думали о чем-то, читали эпитафии, иногда смеялись с этих эпитафий, потому что современные эпитафии своеобразные. А ещё обсуждали, мол, можно об этом рассказывать, как-то это преобразовать в тексты, картинки. Сначала это было на словах, и только в феврале этого года я все-таки решила мысли преобразовать во что-то. Так вышло, что как раз перед февралем я читала очень много книг, посвященных death studies (наука о смерти).
Это скорее про отношения человека к смерти, то, как мы это принимаем. Сергей Мохов* очень много пишет про это. Он один из немногих людей, кто занимается подобным в России, на русскоязычную аудиторию. Я очень много читала именно его, и мне хотелось делать что-то в этом роде, рассуждать о смерти, о нашем к ней отношении, почему мы так хороним, а не иначе, и так далее.
Идея создать проект про кладбища у меня была давно, как-то с детства мне все это нравилось. В последнее время мы с моим другом ходили по кладбищам (практически везде были), смотрели, думали о чем-то, читали эпитафии, иногда смеялись с этих эпитафий, потому что современные эпитафии своеобразные. А ещё обсуждали, мол, можно об этом рассказывать, как-то это преобразовать в тексты, картинки. Сначала это было на словах, и только в феврале этого года я все-таки решила мысли преобразовать во что-то. Так вышло, что как раз перед февралем я читала очень много книг, посвященных death studies (наука о смерти).
Это скорее про отношения человека к смерти, то, как мы это принимаем. Сергей Мохов* очень много пишет про это. Он один из немногих людей, кто занимается подобным в России, на русскоязычную аудиторию. Я очень много читала именно его, и мне хотелось делать что-то в этом роде, рассуждать о смерти, о нашем к ней отношении, почему мы так хороним, а не иначе, и так далее.
Автор фото: М. Николаева
Но как только я начала писать тексты, я поняла, что ухожу в другую степь — в историческую. У меня не было никакого диссонанса, поэтому я поняла — хорошо, значит будет так. Собственно, название проекта — whatiscemetery («что есть кладбище») — оно подразумевало, что я буду говорить о том, что это такое, почему кладбище, почему люди так хоронят и тому подобное. В итоге это ушло в историю. Я не говорю «что есть кладбище», я говорю, кто там есть и почему это так. Это немного другое, но, в целом, почему бы и нет. Лучше, чем ничего.
Когда я смотрю, кто на меня подписывается, вижу абсолютно разных людей, разный возраст, разные интересы. Здорово, что такая довольно специфическая тема оказывается увлекательной и откликается. Я не думала, что это будет кому-то интересно. Надеялась, но не думала. Для меня это своеобразное взаимодействие с людьми — они прочитают, что я пишу, и, возможно, у них что-то изменится в голове. На одном из субботников (Рита организует субботники на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге — прим. ред.) мне говорили, что, мол, прочитал, что ты пишешь, и иначе взглянул на кладбище, — это то, чего я и хотела. Даже если это одному человеку было интересно, важно, значит, уже хорошо.
Когда я смотрю, кто на меня подписывается, вижу абсолютно разных людей, разный возраст, разные интересы. Здорово, что такая довольно специфическая тема оказывается увлекательной и откликается. Я не думала, что это будет кому-то интересно. Надеялась, но не думала. Для меня это своеобразное взаимодействие с людьми — они прочитают, что я пишу, и, возможно, у них что-то изменится в голове. На одном из субботников (Рита организует субботники на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге — прим. ред.) мне говорили, что, мол, прочитал, что ты пишешь, и иначе взглянул на кладбище, — это то, чего я и хотела. Даже если это одному человеку было интересно, важно, значит, уже хорошо.

Мне очень хотелось уехать из дома, из Самарской области. В целом, мне было все равно куда я попаду, но я поступила в Петербург. Я не хотела сюда ехать — я хотела в Москву. А сейчас не хочу (смеется).
Так как я жила в Кинеле, а училась в Самаре, все свое детство я моталась туда-сюда, то есть утром ехала в школу, потом ехала домой, ходила в кружки, в художку, либо делала уроки. А сейчас у меня происходит так, что я могу пройти по Петербургу и сказать, что, например, в этом доме я делала то-то и то-то. Тут я ела, тут пила, тут делала что-то еще (смеется), тут познакомилась с каким-то человеком. А если я пройду так по Самаре — такого не будет. Поэтому я не чувствую никакой привязки к родному городу, области. Совсем недавно я решила себе признаться: нет, я этот город не люблю. Я не хочу там жить, я не хочу туда возвращаться. Это странно…Я не люблю то место, откуда я. Хотя наверняка оно меня в чем-то сформировало. Но все равно больше меня сформировало и формирует то, что здесь, в Петербурге.
Так как я жила в Кинеле, а училась в Самаре, все свое детство я моталась туда-сюда, то есть утром ехала в школу, потом ехала домой, ходила в кружки, в художку, либо делала уроки. А сейчас у меня происходит так, что я могу пройти по Петербургу и сказать, что, например, в этом доме я делала то-то и то-то. Тут я ела, тут пила, тут делала что-то еще (смеется), тут познакомилась с каким-то человеком. А если я пройду так по Самаре — такого не будет. Поэтому я не чувствую никакой привязки к родному городу, области. Совсем недавно я решила себе признаться: нет, я этот город не люблю. Я не хочу там жить, я не хочу туда возвращаться. Это странно…Я не люблю то место, откуда я. Хотя наверняка оно меня в чем-то сформировало. Но все равно больше меня сформировало и формирует то, что здесь, в Петербурге.
Поэтому я не чувствую никакой привязки к родному городу, области. Совсем недавно я решила себе признаться: нет, я этот город не люблю. Я не хочу там жить, я не хочу туда возвращаться. Это странно…Я не люблю то место, откуда я. Хотя наверняка оно меня в чем-то сформировало. Но все равно больше меня сформировало и формирует то, что здесь, в Петербурге

Я экскурсовод на Пискаревском мемориальном кладбище. Вожу экскурсии, подбираю тематические материалы для работы. Еще я — смотритель кладбища, и должна фиксировать происходящее там. Вот недавно упало дерево, надо было его сфотографировать, подписать акт и так далее...Так как Пискаревский мемориал — объект федерального значения, мы здесь не можем вообще никаких изменений вносить без согласования. Дерево упало — нужно составить акт, распилить его, увезти.
Когда я училась на втором курсе, мне очень хотелось заниматься чем-то вроде искусствоведения, но мои родители были против. Я всячески искала какие-то курсы, что-то подобное, чтобы хоть как-то приблизиться к этой мечте. Уже во время учебы в университете мы с подругой увидели курсы гидов-переводчиков при СпбГУ, в итоге мы проучились там год. Это была программа повышения квалификации. Мы получили дипломы о переквалификации как гиды-переводчики, работающие на иностранном языке. Все обучение было на английском: там как раз была и история искусств, и история Петербурга, история всех музеев. Получается, у меня есть как бы второе высшее. Причем я его получила еще до того, как получила первое.
После этих курсов я работала гидом-переводчиком два года с иностранцами, с англичанами, австралийцами, американцами. Это было как раз до пандемии. После вуза я искала что-то подобное, но ничего нормального не было. И вдруг я увидела вакансию на Пискаревке и подумала: ну ок. Откликнулась. Меня позвали на собеседование, и в этот же вечер сказали, что меня берут.
Когда я училась на втором курсе, мне очень хотелось заниматься чем-то вроде искусствоведения, но мои родители были против. Я всячески искала какие-то курсы, что-то подобное, чтобы хоть как-то приблизиться к этой мечте. Уже во время учебы в университете мы с подругой увидели курсы гидов-переводчиков при СпбГУ, в итоге мы проучились там год. Это была программа повышения квалификации. Мы получили дипломы о переквалификации как гиды-переводчики, работающие на иностранном языке. Все обучение было на английском: там как раз была и история искусств, и история Петербурга, история всех музеев. Получается, у меня есть как бы второе высшее. Причем я его получила еще до того, как получила первое.
После этих курсов я работала гидом-переводчиком два года с иностранцами, с англичанами, австралийцами, американцами. Это было как раз до пандемии. После вуза я искала что-то подобное, но ничего нормального не было. И вдруг я увидела вакансию на Пискаревке и подумала: ну ок. Откликнулась. Меня позвали на собеседование, и в этот же вечер сказали, что меня берут.

Автор фото: У. Слипенко
Когда я работала гидом-переводчиком, то водила туристов по таким банальным местам типа Петергофа и Пушкина. Зачем иностранцы сюда приезжали? Они были все довольно возрастные, я думаю, лет за 50. Многие (не все, конечно) были с таким большим количеством стереотипов и предрассудков о России. Их очень, например, удивляло, что мне было 18 и я хорошо говорила по-английски… Удивлялись нашему метро, насколько оно глубокое. Когда я показывала им фотографии станций, они восклицали: «Красивое метро!». Мне было приятно разрушать эти стереотипы, но я понимала, что не каждый может доехать до России, чтобы проверить их, и просто поверит тому, что говорят. Потому что как будто за рубежом к нам, к России и россиянам, относятся как к каким-то дикарям. Это, конечно, обидно.
Казалось бы, вроде XXI век, вроде мы ушли от балалаек, но нет. Есть два крупных англоязычных канала про Россию, как минимум. Правда, они консервативные. Скорее всего, есть и какие-то молодежные каналы, набирающие популярность.
Я сталкивалась с несколькими историческими каналами в Интернете, и там парень, не россиянин, рассказывает о репрессиях. В частности, он рассказывал про Назинскую трагедию, которая произошла в районе Томской области. Было раскулачивание, на остров Назино на Оби привезли людей и оставили их там без еды. Как итог, случился массовый каннибализм, да чего там только не было. Привезли чуть больше 6000 человек, всего около 2000 — выжили. До этого ролика я про это ничего не слышала, потом только нашла скупую статейку на Википедии. Еще я слушала на Арзамасе лекции, где тоже упоминалась Назинская трагедия в контексте лагерей на Сахалине. У нас о таком не принято говорить, а вот он, зарубежный ютубер, рассказывает. Понятное дело, что все это можно в качестве пропаганды использовать, но, с другой стороны, у нас на уроках истории про это вообще ни слова.
Казалось бы, вроде XXI век, вроде мы ушли от балалаек, но нет. Есть два крупных англоязычных канала про Россию, как минимум. Правда, они консервативные. Скорее всего, есть и какие-то молодежные каналы, набирающие популярность.
Я сталкивалась с несколькими историческими каналами в Интернете, и там парень, не россиянин, рассказывает о репрессиях. В частности, он рассказывал про Назинскую трагедию, которая произошла в районе Томской области. Было раскулачивание, на остров Назино на Оби привезли людей и оставили их там без еды. Как итог, случился массовый каннибализм, да чего там только не было. Привезли чуть больше 6000 человек, всего около 2000 — выжили. До этого ролика я про это ничего не слышала, потом только нашла скупую статейку на Википедии. Еще я слушала на Арзамасе лекции, где тоже упоминалась Назинская трагедия в контексте лагерей на Сахалине. У нас о таком не принято говорить, а вот он, зарубежный ютубер, рассказывает. Понятное дело, что все это можно в качестве пропаганды использовать, но, с другой стороны, у нас на уроках истории про это вообще ни слова.
Мне было приятно разрушать эти стереотипы, но я понимала, что не каждый может доехать до России, чтобы проверить их, и просто поверит тому, что говорят

Я была почти на всех кладбищах Петербурга. Самое любимое — Смоленское лютеранское, наверное. Потому что я больше всего его знаю. И еще потому что оно небольшое. У меня есть ощущение, что я могу сделать там много всего. Недавно я была на Волковском лютеранском — голова кругом: и тут надо сделать, и тут траву оборвать…А когда у тебя есть небольшая территория, и ты более-менее все знаешь, то проще работать. Сегодня на этом участке, завтра — на этом.
Еще мне нравится Еврейское кладбище, потому что оно необычное. Оно находится на юге зеленой ветки. Оно было открыто в конце XIX века. Это было первое кладбище, куда привозили тела на поездах. То есть не на телеге везли через полгорода, а на поезде. Я читала у исследователя Мохова, что был проект кладбища отдельно от города, потому что была тенденция (давно, но все же) выселять кладбища из центра города, так как строить дома было негде, — антисанитария. И к этому кладбищу, по плану, проводить железнодорожную ветку. Вроде бы этот проект даже был осуществлен, в Питере как раз такое было.
Еще из интересного: на Волковском кладбище была использована система привязки могил к географическим координатам. Были кладбищенские книги, где писался не только участок и место захоронения, но и координаты, потому что это все очень условно — участки могли переименовывать, а географические координаты никуда не денутся. Для каждого человека, захороненного в определенный период, по-моему, до начала 10-ых годов XX века была вот эта географическая привязка. Соответственно, если сейчас посмотреть эти книги, то даже когда на могилу человека похоронили еще 10 человек в советское время, можно найти место первоначального захоронения. Это вообще уникальная история.
Еще мне нравится Еврейское кладбище, потому что оно необычное. Оно находится на юге зеленой ветки. Оно было открыто в конце XIX века. Это было первое кладбище, куда привозили тела на поездах. То есть не на телеге везли через полгорода, а на поезде. Я читала у исследователя Мохова, что был проект кладбища отдельно от города, потому что была тенденция (давно, но все же) выселять кладбища из центра города, так как строить дома было негде, — антисанитария. И к этому кладбищу, по плану, проводить железнодорожную ветку. Вроде бы этот проект даже был осуществлен, в Питере как раз такое было.
Еще из интересного: на Волковском кладбище была использована система привязки могил к географическим координатам. Были кладбищенские книги, где писался не только участок и место захоронения, но и координаты, потому что это все очень условно — участки могли переименовывать, а географические координаты никуда не денутся. Для каждого человека, захороненного в определенный период, по-моему, до начала 10-ых годов XX века была вот эта географическая привязка. Соответственно, если сейчас посмотреть эти книги, то даже когда на могилу человека похоронили еще 10 человек в советское время, можно найти место первоначального захоронения. Это вообще уникальная история.
Автор фото: М. Николаева
Вячеслав Михайлович Молотов
Российский революционер, советский политический, государственный и партийный деятель. Председатель Совета народных комиссаров СССР в 1930—1941 годах, народный комиссар, министр иностранных дел СССР в 1939—1949, 1953—1956 годах
Описанием погребенных на петербургских кладбищах занимался В.И. Саитов в начале XX века — он и его помощники переписали с надгробий тысячи имен, их труд был опубликован — это справочник «Петербургский некрополь». Через столетие А.В. Кобак и Ю.М. Пирютко с соавторами издали книгу «Исторические кладбища Санкт-Петербурга», и эта книга, скорее, просто историческая, в ней рассказывается об истории петербургского некрополя. Есть очень хорошие книги по Александро-Невской лавре, есть сборник по Волковскому лютеранскому, по Смоленскому лютеранскому такой тоже есть. К сожалению, не все некрополи Петербурга удостоились чести быть хорошо исследованными.
А еще удивительно, что очень хорошо исследовано Благовещенское кладбище, которого сейчас не существует, на Васильевском острове между 7 и 8 линиями, где церковь песочного цвета. Это кладбище, которого нет уже как лет 200, исследовала Г.С. Таболина. В ее книге («Благовещенское кладбище на Васильевском острове») есть огромная историческая справка и списки погребенных.
В других городах, например, в Самаре, не осталось ни одного дореволюционного кладбища. На одном построили дом, на другом — парк и завод, а сейчас там торговый центр. Самара была очень богатым городом, купеческим, торговым. Соответственно, там были богатые люди, которые ставили себе богатые надгробия. Могу понять логику, когда вы, товарищи революционеры, уничтожаете старые надгробия, что, мол, все к черту — могу понять. Но на одном из этих дореволюционных кладбищ был похоронен начальник дивизии Красной Армии Николай Щорс, его похоронили в Самаре в 1919 году, а потом его могилу тоже пустили под снос. Об этом узнали, когда ремонтировали одну из улиц в Самаре, в бордюре была надгробная плита Щорса. И, казалось бы, я могу понять, что вы разрушаете дореволюционные надгробия, но Щорс — он же ваш! Где же логика?..
А еще удивительно, что очень хорошо исследовано Благовещенское кладбище, которого сейчас не существует, на Васильевском острове между 7 и 8 линиями, где церковь песочного цвета. Это кладбище, которого нет уже как лет 200, исследовала Г.С. Таболина. В ее книге («Благовещенское кладбище на Васильевском острове») есть огромная историческая справка и списки погребенных.
В других городах, например, в Самаре, не осталось ни одного дореволюционного кладбища. На одном построили дом, на другом — парк и завод, а сейчас там торговый центр. Самара была очень богатым городом, купеческим, торговым. Соответственно, там были богатые люди, которые ставили себе богатые надгробия. Могу понять логику, когда вы, товарищи революционеры, уничтожаете старые надгробия, что, мол, все к черту — могу понять. Но на одном из этих дореволюционных кладбищ был похоронен начальник дивизии Красной Армии Николай Щорс, его похоронили в Самаре в 1919 году, а потом его могилу тоже пустили под снос. Об этом узнали, когда ремонтировали одну из улиц в Самаре, в бордюре была надгробная плита Щорса. И, казалось бы, я могу понять, что вы разрушаете дореволюционные надгробия, но Щорс — он же ваш! Где же логика?..
Автор фото: М. Николаева
В дореволюционный период тоже такое было: надгробия убирали, захоранивали на одни и те же места по несколько раз. Это нормальная практика, в Европе до сих пор так делают. У нас до революции публиковались объявления в газетах, мол, приведите в порядок свои захоронения, иначе через определенный период времени мы всех их уберем. То есть у людей было время, они прочитали в газете об этом, многие приходили и приводили в порядок, а не пришли — ну извините, надгробие уничтожали.
А в Советском Союзе все без разбора превращалось в кучу камня, снимались металлические детали в огромных количествах. Конечно, до революции тоже воровали металл с кладбищ, но тогда это жестко каралось, в Советском Союзе не каралось, скорее наоборот. Выборгское римско-католическое кладбище, например, уничтожено целиком, там осталась пара надгробий, все остальные разбивались на добычу камня. А советские раковины*, которые были популярны в начале 20-30-ых годов, производились в том числе из разбитых надгробий. Еще надгробиями вымащивали дорожки, тротуары, использовали для облицовки зданий. Я слышала, что при строительстве метро Автово использовались плиты. Никто никогда не признается, даже если это правда сто раз. Я читала об этом в нескольких разных источниках, сама идея в принципе отражает то, что происходило нечто неимоверное.
Я уже не говорю про рециркуляцию надгробий, которая иногда доходила до комичного. На Богословском, которое находится через железную дорогу от Пискаревского, на могиле кандидата технических наук, умершего в 1959 году, стоит ангелочек* явно с дореволюционного надгробия, и ничего у него не отбито, что поразительно. Думаю, конечно, кандидат поставит себе ангела, ну серьезно? Я стараюсь не винить тех людей, которые убирали надгробия и ставили их себе, тогда это была примета времени, но мне кажется это странным. Очень часто переносили детали надгробий (вазы, бюсты), их сохраняли в музеях, это, с одной стороны, хорошо, потому что это хоть как-то спасало детали декоративные. С другой стороны, облик надгробия искажался, и восстанавливать его никто не собирался. Ладно, если бы они забрали это в 90-ых, а затем изготовили копию и вернули на место. Но в этом нет смысла, пока на кладбищах (если мы говорим про Смоленское лютеранское) нет охраны. Поэтому что бы ни поставили — это в любой момент окажется где угодно.
А в Советском Союзе все без разбора превращалось в кучу камня, снимались металлические детали в огромных количествах. Конечно, до революции тоже воровали металл с кладбищ, но тогда это жестко каралось, в Советском Союзе не каралось, скорее наоборот. Выборгское римско-католическое кладбище, например, уничтожено целиком, там осталась пара надгробий, все остальные разбивались на добычу камня. А советские раковины*, которые были популярны в начале 20-30-ых годов, производились в том числе из разбитых надгробий. Еще надгробиями вымащивали дорожки, тротуары, использовали для облицовки зданий. Я слышала, что при строительстве метро Автово использовались плиты. Никто никогда не признается, даже если это правда сто раз. Я читала об этом в нескольких разных источниках, сама идея в принципе отражает то, что происходило нечто неимоверное.
Я уже не говорю про рециркуляцию надгробий, которая иногда доходила до комичного. На Богословском, которое находится через железную дорогу от Пискаревского, на могиле кандидата технических наук, умершего в 1959 году, стоит ангелочек* явно с дореволюционного надгробия, и ничего у него не отбито, что поразительно. Думаю, конечно, кандидат поставит себе ангела, ну серьезно? Я стараюсь не винить тех людей, которые убирали надгробия и ставили их себе, тогда это была примета времени, но мне кажется это странным. Очень часто переносили детали надгробий (вазы, бюсты), их сохраняли в музеях, это, с одной стороны, хорошо, потому что это хоть как-то спасало детали декоративные. С другой стороны, облик надгробия искажался, и восстанавливать его никто не собирался. Ладно, если бы они забрали это в 90-ых, а затем изготовили копию и вернули на место. Но в этом нет смысла, пока на кладбищах (если мы говорим про Смоленское лютеранское) нет охраны. Поэтому что бы ни поставили — это в любой момент окажется где угодно.
Вячеслав Михайлович Молотов
Российский революционер, советский политический, государственный и партийный деятель. Председатель Совета народных комиссаров СССР в 1930—1941 годах, народный комиссар, министр иностранных дел СССР в 1939—1949, 1953—1956 годах

Мы с Татьяной (Татьяна Жильцова — филолог, создательница сайта spslc.ru — прим. ред.), которая занимается сайтом с оцифровкой информации о погребенных на СЛК, общаемся с общиной церкви Святой Екатерины, которой раньше принадлежало Смоленское лютеранское. Так или иначе община следит за ним. Община вела переговоры о том, чтобы на кладбище установили камеры и посадили охранника. На наш взгляд, это можно сделать очень просто. Есть всякие организации вроде «Ночлежки», которые дают людям работу: можно поставить вагончик у входа, пустить туда этого человека. Идея это не моя, но она как раз циркулирует. Возможно, надо как-то понастойчивее с этим, но пока как есть. Поэтому многие организации, которые были бы готовы что-то восстановить на Смоленском лютеранском кладбище, не хотят этого делать, потому что охраны нет. Я их прекрасно понимаю, они сейчас восстановят, потом придет какой-нибудь товарищ, обольет это краской, спилит на металлолом и тд. Для того, чтобы что-то сделать, надо обеспечить безопасные условия. Пока что они, к сожалению, не обеспечены.
Это кладбище не принадлежит церкви, оно было национализировано в 1919 году и передано городу. Кладбище входит в реестр объектов культурного наследия, там несколько охранных зон. Есть и отдельные памятники, которые взяты под охрану. Есть — федерального значения, но есть некоторые и регионального. Чтобы, скажем, на какие-то восстановительные работы получить разрешение, нужно писать в КГИОП*, который отвечает за памятники культуры. После этого писать в Специализированную службу по вопросам похоронного дела. Требования у всех разные, но у всех нужно брать разрешение.
Одних волнует сохранность культурного объекта, а других что-то кладбищенское. Скажем, если я согласовываю субботник тот же, то это в КГИОП, потом в похоронную службу…И потом уже нужно звонить в управляющую компанию кладбища, например, «Собор» на Смоленском лютеранском. Они занимаются православным и лютеранским кладбищем.
Это кладбище не принадлежит церкви, оно было национализировано в 1919 году и передано городу. Кладбище входит в реестр объектов культурного наследия, там несколько охранных зон. Есть и отдельные памятники, которые взяты под охрану. Есть — федерального значения, но есть некоторые и регионального. Чтобы, скажем, на какие-то восстановительные работы получить разрешение, нужно писать в КГИОП*, который отвечает за памятники культуры. После этого писать в Специализированную службу по вопросам похоронного дела. Требования у всех разные, но у всех нужно брать разрешение.
Одних волнует сохранность культурного объекта, а других что-то кладбищенское. Скажем, если я согласовываю субботник тот же, то это в КГИОП, потом в похоронную службу…И потом уже нужно звонить в управляющую компанию кладбища, например, «Собор» на Смоленском лютеранском. Они занимаются православным и лютеранским кладбищем.
Невыгодно открывать кладбищенские архивы, так как это большой бизнес, на самом деле. Выгодно их уничтожать. Архив кладбищ как таковой есть, он находится на Советской улице, я пыталась что-то запросить, но мне говорили, что ничего нет. С архивами вообще большая беда, нет никакой выгоды их держать
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Кладбища находятся на перепутье сразу нескольких сфер, и это усложняет работу. Например, Пискаревка — это вроде бы музей, но мы не принадлежим Комитету по культуре или КГИОП, а относимся к Комитету по социальной политике. Это такая огромная черная дыра, куда соваться, наверное, до сих пор опасно. Из-за этого многие инициативы по кладбищам проваливаются.
Например, Малоохтинское кладбище пытались описать. Оно очень небольшое, на берегу реки Охты, и описать его было бы не так трудно. Администрация кладбища запретила опись — якобы для того, чтобы инициаторы акции не нарушали закон «О персональных данных». Но на самом деле проблема совсем в другом.
Это кладбище находится почти в центре города, я думаю, место там стоит не одну сотню тысяч рублей. Соответственно, если сейчас какие-то ребята опишут эти могилы и скажут, что здесь похоронена такая-то такая-то такого-то года смерти, и выложат это в интернет, то какой-нибудь ее правнук увидит, скажет «ой, бабуля» и поедет радостный на могилу. А там вместо бабули лежит другой человек, которого похоронили поверх. И будет скандал. Я не знаю ни одного такого прецедента, но, думаю, чисто теоретически такое возможно. А если описи кладбища не будет, то никто не узнает, кто же там был погребен на самом деле.
Невыгодно открывать кладбищенские архивы, так как это большой бизнес, на самом деле. Выгодно их уничтожать. Архив кладбищ как таковой есть, он находится на Советской улице, я пыталась что-то запросить, но мне говорили, что ничего нет. С архивами вообще большая беда, нет никакой выгоды их держать. Плюс сотрудники кладбища знают, к каким могилам не ходят. Соответственно, они могут определить их под снос, как на Смоленском православном. На месте старых могил устраивают новые, прямо рядами. Бизнес есть бизнес. Понятно, что кладбища обновляются, но в Европе, например, это все официально закреплено, у нас пока — нет.
Например, Малоохтинское кладбище пытались описать. Оно очень небольшое, на берегу реки Охты, и описать его было бы не так трудно. Администрация кладбища запретила опись — якобы для того, чтобы инициаторы акции не нарушали закон «О персональных данных». Но на самом деле проблема совсем в другом.
Это кладбище находится почти в центре города, я думаю, место там стоит не одну сотню тысяч рублей. Соответственно, если сейчас какие-то ребята опишут эти могилы и скажут, что здесь похоронена такая-то такая-то такого-то года смерти, и выложат это в интернет, то какой-нибудь ее правнук увидит, скажет «ой, бабуля» и поедет радостный на могилу. А там вместо бабули лежит другой человек, которого похоронили поверх. И будет скандал. Я не знаю ни одного такого прецедента, но, думаю, чисто теоретически такое возможно. А если описи кладбища не будет, то никто не узнает, кто же там был погребен на самом деле.
Невыгодно открывать кладбищенские архивы, так как это большой бизнес, на самом деле. Выгодно их уничтожать. Архив кладбищ как таковой есть, он находится на Советской улице, я пыталась что-то запросить, но мне говорили, что ничего нет. С архивами вообще большая беда, нет никакой выгоды их держать. Плюс сотрудники кладбища знают, к каким могилам не ходят. Соответственно, они могут определить их под снос, как на Смоленском православном. На месте старых могил устраивают новые, прямо рядами. Бизнес есть бизнес. Понятно, что кладбища обновляются, но в Европе, например, это все официально закреплено, у нас пока — нет.
Автор фото: М. Николаева

Павел Юльевич Сюзор
Великий архитектор.
Павел Сюзор проектировал в Санкт-Петербурге общественные здания, церкви, больницы, доходные дома, бани и жилье с недорогими квартирами. Страница на сайте СЛК.
Павел Сюзор проектировал в Санкт-Петербурге общественные здания, церкви, больницы, доходные дома, бани и жилье с недорогими квартирами. Страница на сайте СЛК.
Сергей Викторович Мохов
Российский социальный антрополог. Кандидат социологических наук НИУ ВШЭ, лауреат премии имени Александра Пятигорского VI сезона
Николай Павлович Анциферов
Cоветский культуролог, историк, градовед и краевед

Автор фото: М. Николаева

Автор фото: М. Мурр

Автор фото: М. Николаева

Автор фото: М. Николаева
Очень многие объекты культуры в некрополях имеют странный статус. Например, есть саркофаг с цветами* — это вообще не памятник, кусок камня, всем наплевать. Если его завтра разобьют, то ничего не будет. При этом есть могила Сюзора*. Она охраняется, имею в виду само надгробие*. Понятно, что такой человек, как Сюзор, значимая личность, но художественная ценность одного и другого надгробия, конечно, несопоставима. И при этом одно — памятник федерального значения, а второе — ничего. На Красненьком кладбище, например, очень много типовых надгробий советского времени, абсолютно неинтересных с архитектурной точки зрения, и они охраняются как памятники культуры регионального значения. Там же есть обалденная усыпальница в стиле модерн, но она тоже не охраняется. То есть все эти охранные статусы надо пересматривать, и кому это нужно, не совсем понятно. Не уверена, что в мире есть какой-то прецедент, когда огромное количество могил и людей вдруг стало никому не нужно. И нам важно что-то с этим делать.
Очень сильно заметно композиционное единство на кладбищах, если посмотреть на старые фотографии. Их не очень много, конечно. Но там заметно, что памятники как-то перекликаются друг с другом, памятники имеют какую-то отсылку к жизни человека. Так было не только до революции, но и в советское время. И это очень здорово, потому что ты смотришь не просто на какое-то «тут был Вася», а ты смотришь на то, что тут был Вася, а Вася был тем-то, это уже история человека. Скажем, я ходила по Волковскому лютеранскому, и там на могиле — кораблик, из металла такой симпатичный, сразу понятно, что человек так или иначе был связан с кораблями, или моряк, или корабли создавал, и сразу яркая картина о человеке вырисовывается. Соотвественно, когда на дореволюционных надгробиях видишь барельефы, да, они могли изображать какие-то христианские сюжеты, библейские сюжеты, но жизнь человека могли переложить на эти сюжеты. Опять же, если надгробие взять и поставить другому человеку бездумно (а так обычно и происходило), то весь смысл терялся. Понятное дело, что все не сохранишь и память обо всех не сохранишь, но....Например, на Смоленском лютеранском есть надгробие Чарльза Бёрда. Во-первых, он шотландец, готика английская, все такое. И его надгробие — это металлическая готическая часовня, а металл — как раз то, чем он занимался. В частности, он делал конструкции для купола Исаакиевского собора, всякие инновационные вещи, а напротив лежит Адамини — он был каменщиком, у него такое огромное каменное надгробие. И он делал фундамент для Исаакиевского собора. Получилось, что человек, который делал конструкции для купола, и человек, который делал фундамент того же собора, лежат напротив друг друга на одном кладбище. Возможно, такое расположение вышло случайно, а возможно и нет, но это очень интересно. Камень — каменщик. Металл, английская готика — шотландец. Все эти вещи — они такие хрупкие. И сразу понимаешь, что тогда были такие же люди, как и сейчас.
К слову о людях: недавно читала книгу «Записки старого петербуржца» писателя и публициста Льва Успенского, где он приводит цитату французского историка Олара про важность «малой» истории.
Очень сильно заметно композиционное единство на кладбищах, если посмотреть на старые фотографии. Их не очень много, конечно. Но там заметно, что памятники как-то перекликаются друг с другом, памятники имеют какую-то отсылку к жизни человека. Так было не только до революции, но и в советское время. И это очень здорово, потому что ты смотришь не просто на какое-то «тут был Вася», а ты смотришь на то, что тут был Вася, а Вася был тем-то, это уже история человека. Скажем, я ходила по Волковскому лютеранскому, и там на могиле — кораблик, из металла такой симпатичный, сразу понятно, что человек так или иначе был связан с кораблями, или моряк, или корабли создавал, и сразу яркая картина о человеке вырисовывается. Соотвественно, когда на дореволюционных надгробиях видишь барельефы, да, они могли изображать какие-то христианские сюжеты, библейские сюжеты, но жизнь человека могли переложить на эти сюжеты. Опять же, если надгробие взять и поставить другому человеку бездумно (а так обычно и происходило), то весь смысл терялся. Понятное дело, что все не сохранишь и память обо всех не сохранишь, но....Например, на Смоленском лютеранском есть надгробие Чарльза Бёрда. Во-первых, он шотландец, готика английская, все такое. И его надгробие — это металлическая готическая часовня, а металл — как раз то, чем он занимался. В частности, он делал конструкции для купола Исаакиевского собора, всякие инновационные вещи, а напротив лежит Адамини — он был каменщиком, у него такое огромное каменное надгробие. И он делал фундамент для Исаакиевского собора. Получилось, что человек, который делал конструкции для купола, и человек, который делал фундамент того же собора, лежат напротив друг друга на одном кладбище. Возможно, такое расположение вышло случайно, а возможно и нет, но это очень интересно. Камень — каменщик. Металл, английская готика — шотландец. Все эти вещи — они такие хрупкие. И сразу понимаешь, что тогда были такие же люди, как и сейчас.
К слову о людях: недавно читала книгу «Записки старого петербуржца» писателя и публициста Льва Успенского, где он приводит цитату французского историка Олара про важность «малой» истории.
«Если бы вы предложили антиквару неопубликованное письмо Наполеона I, вы стали бы очень богатым человеком, мсье… Впрочем… Минутку! Вы получили бы еще намного больше, если бы в ваших руках оказалась совсем простая вещь — приходо-расходная книжка французской хозяйки, матери семьи, с записями ее трат и поступлений за годы 1789-1794… Сколько она заплатила за пучок лука в день взятия Бастилии?.. Что стоила ей кринка молока утром того дня, когда голова Луи Капета слетела в корзину в ряду многих других голов? Как вознаграждала она в год падения Робеспьера «citoyenne une telle» за мытье полов и «ситуайена» такого-то за набивку нового матраса?.. Если у вас есть надежда разыскать на вашем чердаке такие записи — ищите, ищите! И, буде вам предложат за них столько золота, сколько они весят, выгоните вон наглецов: вы получите в сто раз больше. Ибо письма Наполеона хранят, а приходные книжки бабушек выбрасывают в печку. Настоящая же драгоценность для историка — именно они»
По сути там указано много деталей, которые не важны для исторического масштаба, но которые позволяют увидеть жизнь такой, какой она была. Это очень важно. На этот счет можно еще почитать труды Анциферова*.
Поэтому, когда в Лавру перевозили надгробия с разных кладбищ, с одной стороны, это было хорошо, потому что они сохранялись, с другой стороны, это создавало в Лавре нагромождение несочетающихся друг с другом памятников. Соответственно, разрушался тот ансамбль, который уже складывался на кладбище, а нового не получалось. Это как у Довлатова: глупо вешать в зале больше одной картины Рембрандта. Можно понять, почему — потому что одной картины Рембрандта уже достаточно. Главное, что мы можем взять какие-то уроки из этого на будущее, и это, наверное, самое важное.
Поэтому, когда в Лавру перевозили надгробия с разных кладбищ, с одной стороны, это было хорошо, потому что они сохранялись, с другой стороны, это создавало в Лавре нагромождение несочетающихся друг с другом памятников. Соответственно, разрушался тот ансамбль, который уже складывался на кладбище, а нового не получалось. Это как у Довлатова: глупо вешать в зале больше одной картины Рембрандта. Можно понять, почему — потому что одной картины Рембрандта уже достаточно. Главное, что мы можем взять какие-то уроки из этого на будущее, и это, наверное, самое важное.
Соответственно, разрушался тот ансамбль, который уже складывался на кладбище, а нового не получалось. Это как у Довлатова: глупо вешать в зале больше одной картины Рембрандта. Можно понять, почему — потому что одной картины Рембрандта уже достаточно. Главное, что мы можем взять какие-то уроки из этого на будущее, и это, наверное, самое важное

Фото с сайта «История России в фотографиях»
Каждый понедельник собираются поклонники у могилы братца. В понедельник он должен воскреснуть, в какой понедельник неизвестно, а потому не пропускают ни одного
В XX веке, когда случилась революция, советская элита стала топить за кремацию, что вот, мол, ваши захоронения в землю, прошлый век, ваши дворянские пережитки, тьфу — нужно сжигать. Пытались построить крематорий в Лавре в Митрополичьем саду, не построили. Построили, в итоге, прямо на пересечении Камской и 14-ой линии Васильевского острова, кого-то там сожгли, но это не было популярной штукой. Среди властей кремация воспринималась как развлечение: а не поехать ли нам на кремацию посмотреть. И это пропагандировалось, в том числе, в высших эшелонах советской власти, что все эти «чины» должны дать пример остальному люду, что это новый мир, все правильно. Но тут стоит понимать, что люди, которые жили в дореволюционной России, были более религиозны, чем мы, соответственно, было иное отношение к кремации. Совершенно все попытки создать что-то новое в похоронном деле провалились. Как подтверждение — когда умер Ленин, вопрос о его кремации не стоял совершенно. Хотя, казалось бы, сожгите вы Ленина, и все сразу захотят тоже.
С похоронными обрядами тоже были вопросы: как по-новому хоронить людей, ведь религия — это уже «не наше». Об этом я читала у Анны Соколовой.
Было два варианта:
С похоронными обрядами тоже были вопросы: как по-новому хоронить людей, ведь религия — это уже «не наше». Об этом я читала у Анны Соколовой.
Было два варианта:
- Придумать новую обрядность
- Отказаться от любой обрядности

Все по-разному относятся к утрате: кому-то становится плевать на следующий день, все возможно. Кто-то через 10 лет не может осознать потерю. Но чрезмерная, сильная скорбь по умершему, по моему мнению, — наследие советского времени. Мне кажется, что с этим что-то нужно делать, и сейчас уже намечаются сдвиги во всем этом
У Мохова это было. Сейчас люди будто бы больше скорбят и больше переживают — это одна из его идей, но не только он про это говорил, потому что у нас нет опыта разговоров о смерти, контакта с ней. Даже когда кто-то в окружении умирает, мы не проводим с этим человеком много времени. Приведу пример. В Древней Руси или до революции, например, человек умер, его надо обмыть, одеть, позвать священника. И ты этим занимаешься, да, тебе грустно, плохо — ну разумеется, — но при этом ты взаимодействуешь с мертвым телом, поэтому потихоньку приходит осознание, что необходимо прощаться с человеком. Через какое-то время человек приходит к родственнику на кладбище, но прощание уже состоялось благодаря церемониалу. В советское время это все было уничтожено. Расстояние между мертвыми и живыми стало очень большим. Люди стали очень тяжело переживать смерть, так как не живут с ней рядом. Теперь, когда человек умирает, они не понимают, что происходит, куда он делся. Раньше люди часто умирали дома, сейчас они умирают где-то в больницах, откуда сразу в морг, а из морга сразу на кладбище. Люди этих процессов не видят, не понимают и страдают, а это тянется долгие годы вплоть до собственной смерти. Поэтому на современные памятники тяжело смотреть, с ними вообще тяжело находится, потому что они полны безысходной скорби, от нее не избавиться. Тогда этого не было. Сейчас, наверное, для того, чтобы это исправить, нужно смириться с тем, что смерть — это естественно, то есть нужно вернуть культуру смерти. Учиться обращаться с мертвыми, учиться это проживать и отпускать.
Когда мне было 14 лет, у меня умер дядя, и у меня было осознанное желание не видеть его мертвым. Я не знаю, где его могила, я ни разу не была на кладбище у него. А еще нужно было говорить его родственникам из другой семьи, что он уехал, а не умер. То есть для меня он не умер, вот в чем дело. А бабушка, допустим, которую я видела мертвой, да, для меня она умерла, а дядя нет. Бабушка, например, мне не снится, а вот дядя иногда снится, притом что я с бабушкой была намного ближе. Все по-разному относятся к утрате: кому-то становится плевать на следующий день, все возможно. Кто-то через 10 лет не может осознать потерю. Но чрезмерная, сильная скорбь по умершему, по моему мнению, — наследие советского времени. Мне кажется, что с этим что-то нужно делать, и сейчас уже намечаются сдвиги во всем этом.
Когда мне было 14 лет, у меня умер дядя, и у меня было осознанное желание не видеть его мертвым. Я не знаю, где его могила, я ни разу не была на кладбище у него. А еще нужно было говорить его родственникам из другой семьи, что он уехал, а не умер. То есть для меня он не умер, вот в чем дело. А бабушка, допустим, которую я видела мертвой, да, для меня она умерла, а дядя нет. Бабушка, например, мне не снится, а вот дядя иногда снится, притом что я с бабушкой была намного ближе. Все по-разному относятся к утрате: кому-то становится плевать на следующий день, все возможно. Кто-то через 10 лет не может осознать потерю. Но чрезмерная, сильная скорбь по умершему, по моему мнению, — наследие советского времени. Мне кажется, что с этим что-то нужно делать, и сейчас уже намечаются сдвиги во всем этом.

Современные памятники иногда могут быть забавными. Например, надпись «В далекий край товарищ улетает» — мы с другом над этим смеялись, это часто встречается на памятниках относительно современных. Потом, когда мы стали после очередного такого памятника гуглить эти строки, то нашли информацию, что это песня времен Великой Отечественной войны, про летчика, который погиб. Ничего смешного, разумеется. Но какое отношение к конкретному товарищу имеет, например, эта цитата про летчика? То есть одно дело, когда на памятнике размещают подводную лодку или машину, допустим, — это хоть какая-то отсылка к умершему. А так — как будто мы пытаемся уходить в скорбь, в переживания, но все равно выходит не очень. Наверняка есть современные способы переживания утрат — например, на одном надгробии я видела кью-ар код. По ссылке была краткая биография человека, которая заменила эпитафию. В этом не чувствуются страдания, чувствуется принятие смерти и что-то новое, другое отношение к смерти в целом. Это интересно.
Я не говорю, что нужно делать так, как до революции: обмывать самостоятельно тело человека, ставить свечи в изголовье, — но какие-то новые, современные методы можно использовать. Новая обрядность образуется, некая цифровизация, почему бы и нет. Самое важное — что эта инициатива идет «с низов», а значит, она искренняя, в отличие от «красной обрядности».
Я не говорю, что нужно делать так, как до революции: обмывать самостоятельно тело человека, ставить свечи в изголовье, — но какие-то новые, современные методы можно использовать. Новая обрядность образуется, некая цифровизация, почему бы и нет. Самое важное — что эта инициатива идет «с низов», а значит, она искренняя, в отличие от «красной обрядности».
Автор фото: М. Николаева
Или вот, например, такая штука: вообще, люди ходят на кладбище, чтобы вспомнить человека. В Европе это особенно распространено. Мохов тоже это упоминал: на многих кладбищах в Европе (опять же не на всех, вероятно) весь марафет наводится специальными службами, то есть там убирают, следят за чистотой, все покрашено, если нужно. Поэтому люди туда приходят, чтобы посидеть, посмотреть, вспомнить и уйти. А у нас люди приходят: грабли, лопаты, водка. Убирают могилы, красят, пьют. У Мохова в «Археологии русской смерти» был интересный диалог между представителем администрации и владельцем ритуального агентства, который насмотрелся на порядки в Европе и стал доказывать свою точку зрения про организованную уборку кладбищ.
Представитель администрации: Так, а почему люди должны будут платить за этот ваш колумбарий?
Информант: Потому что это нормально, когда люди платят за обслуживание. Вот смотрите. Например, они платят каждый год абонентскую плату. Взамен мы чистим и красим все. Мы планируем строить фонтаны, посадить красивые деревья, разбить парковую зону, постоянно убирать мусор. Чтобы было не как сейчас на кладбище.
Представитель администрации: Людям это не надо.
Информант: Почему же не надо?!
Представитель администрации: А что они сами тогда будут делать?
Информант: Как что?! [пауза] Скорбеть! И с мертвыми общаться.
Представитель администрации: Нет, им ухаживать за могилами надо. Оградку покрасить и подправить ее, мусор убрать, памятник помыть и от грязи очистить
Информант: Потому что это нормально, когда люди платят за обслуживание. Вот смотрите. Например, они платят каждый год абонентскую плату. Взамен мы чистим и красим все. Мы планируем строить фонтаны, посадить красивые деревья, разбить парковую зону, постоянно убирать мусор. Чтобы было не как сейчас на кладбище.
Представитель администрации: Людям это не надо.
Информант: Почему же не надо?!
Представитель администрации: А что они сами тогда будут делать?
Информант: Как что?! [пауза] Скорбеть! И с мертвыми общаться.
Представитель администрации: Нет, им ухаживать за могилами надо. Оградку покрасить и подправить ее, мусор убрать, памятник помыть и от грязи очистить
Например, мне не обязательно приходить на могилу бабушки, чтобы ее помнить, я могу приходить на грязную могилу, а могу вообще туда не приходить, но это не значит, что я ее забуду. Кто-то показывает свою любовь и попытку исправить прошлые ошибки через уборку могил. В Древней Руси вообще запрещалось плакать долго, примета такая была: плачешь, слезы попадают в могилу, покойнику мокро. Громко кричать тоже было нельзя, потому что будешь беспокоить. Все, похоронили, поголосили и хватит. У тебя там дофига работы — а поле кто уберет, а за детьми кто присмотрит. Сейчас же из-за технологий у нас есть время «на пострадать», это тоже нормально, но нужно отдавать себе в этом отчет. Ведь это зачастую определяет самого человека, его жизнь. У меня есть знакомый, для которого потеря близкого человека определяет, на мой взгляд, всю его жизнь сейчас. Опять же, на мой взгляд, если бы его отношение было бы иным, то и жизнь была бы иной.
Например, мне не обязательно приходить на могилу бабушки, чтобы ее помнить, я могу приходить на грязную могилу, а могу вообще туда не приходить, но это не значит, что я ее забуду

Почему очень важно сохранять кладбища? Потому что город изменяется, перестраивается, он делает это быстро. Кладбище меняется, но гораздо медленнее. На некоторых кладбищах сохранились могилы XVIII века, а неперестроенных домов XVIII века сейчас не найти. За счет этого ты смотришь на историю иначе, через призму плит, эпитафий. В XVIII веке они писались так, в XIX веке так, в XX так, сейчас они пишутся по-другому. На кладбищах время идет по-другому, соответственно, ты можешь на историю посмотреть через порталы в прошлое, окна в прошлое. И вроде бы на дворе XXI век, но при этом есть понимание, как это было 2-3 столетия назад, и это все осталось без изменений. Понятно, что внешне все поменялось, что эта плита провалилась в землю, например, но в XVIII веке делали так, а сейчас так не делают. Это осознавали люди до революции. В середине XIX века писали, что, мол, надгробный камень, которому сто лет, для Петербурга, которому всего на 100 лет больше, — это почтенная старина. Это понимали еще тогда. Всегда были такие люди, всегда понимали, зачем нам сохранять некрополи.
На кладбищах время идет по-другому, соответственно, ты можешь на историю посмотреть через порталы в прошлое, окна в прошлое
Фотографии, использованные в материале:
из личного архива героини, Маргариты Николаевой;
сайт https://spslc.ru;
сайт https://russiainphoto.ru
фото У. Слипенко
из личного архива героини, Маргариты Николаевой;
сайт https://spslc.ru;
сайт https://russiainphoto.ru
фото У. Слипенко
октябрь'21